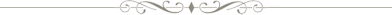Теперь каждый день Катрин начинался в шесть часов утра под нещадный звонок колокольчика, которым звонил слуга, ходя взад и вперед по коридору вдоль дортуаров. И уже к половине восьмого все обитательницы дортуара должны быть готовы идти попарно в классы.
О, как это не было похоже на то, как расписывала ей маман жизнь в столице, отправляя ее в институт. Можно ли чувствовать себя несчастной в десять лет? Ведь ее включили в число учениц, попечением которых занималась сама вдовствующая императрица и к их услугам были лучшие учителя. Порой Катрин чувствовала себя очень несчастной. Каждый день был похож на другой, с той разницей, что менялись дежурства классных дам. У дежурной дамы была тетрадь, в которую записывался малейший проступок или шалость. О самых серьезных провинностях докладывали начальнице института или инспектрисе.
Как все это было не похоже на жизнь в Каменке. Именно там и была жизнь, а здесь прозябание, постоянное чувство голода и холода, особенно зимой, когда утром приходилось пробивать специальным молоточком тонкую корочку на воде для умывания. От холодной воды мерзли руки, у некоторых девочек они покрывались цыпками, но зато лицо при умывании холодной водой приобретало живой румянец, что особенно ценилось среди девочек.
Знала ли ее маменька про то, с каким нетерпением приходилось ждать, пока дежурная воспитанница прочтет главу Евангелия, а потом другая начнет разносить булки, к которым подавался чай, отдающий мочалой. Не помогала даже патока, которую клали в чай. Ученицы называли эту смесь декоктом и пили через силу. Наверное, она догадывалась о спартанских условиях в институте, потому как ежемесячно присылала десять рублей классной даме и Катрин могла с другими счастливицами по утрам завтракать у классной дамы. Помимо почти домашней обстановки в ее комнате, к казенной булке прилагались три сдобных сухарика и молочник с молоком.
В первую же осень, непривычная к холодам, Катрин заболела и несколько недель провела в лазарете. Для укрепления здоровья, доктор сказал, что мне надобно позволить спать до семи часов и обедать у начальницы для подкрепления организма. Это было весьма приятно, хоть и вызывало некую зависть у остальных, лишенных таких скудных благ.
Но в остальном, жизнь в институте не была такой уж дурной, чтобы жалеть о переменах в жизни. Поначалу Катрин писала письма домой каждый день, по традиции отдавая их перед отправкой классной даме вместе с гривенником «на марку». Часто ей возвращали письма, наполненные тоской от разлуки, нежными словами к родным. Со временем письма становись все официальнее, и благосклонно принимались классными дамами. А более вольные письма она старалась отправлять в немецкое дежурство. Немка лишь поверхностно пробегала глазами строки, написанные по-французски, полагая, что все шалости и глупости пишутся исключительно на русском языке. Ох, уж эта наивность!
Нося с гордостью фамилию Давыдовых, Катрин была воспитана женщиной, оставшейся до мозга костей француженкой. Разве дочь принца Бидаша, урожденная де Грамон могла забыть кто она такая? И Катрин первые слова произнесла на французском языке. Она была для матери как игрушка, с ней разговаривали, пели песни, далекие от русских колыбельных или потешек, ее наряжали, как куклу, а потом, устав, отдавали няньке. И та говорила на своем, на русском языке. И бабушка – Екатерина Николаевна Давыдова, говорила в доме чаще всего по-русски. И благодаря ей Катрин говорила на правильном русском языке, а не том говоре, что можно слышать в простонародье.
К Рождеству Катрин получила из дома письмо, которое стало для нее лучшим подарком. Беспокоясь о здоровье старшей дочери, и желая удостовериться в ее благополучии, в Петербург собиралась приехать сама Аглая Антоновна, да не одна, а с Адель. О! ради такого Катрин готова была даже отдать подругам свой рождественский гостинец, полученный от Марии Федоровны, приехавшей навестить «своих девочек». Но, человек щедр в своих стремлениях и слаб перед искушением. Сладости были съедены. От коробочки с конфектами, парой апельсин и марципаном к январю ничего не осталось, кроме марципана, который она желала сохранить для Адель.
Посещения родных проходили в большой зале. Туда из класса вызывали институток к которым пришли родные. В первый же четверг после получения известия, что матушка в Петербурге, Катрин тщетно ждала, когда ее позовут. Но в воскресенье, когда дежурная передала классной даме, что Екатерину Давыдову ждет мать, Катрин едва сдержалась, чтобы чинно встать, подойти к столику классной дамы, «макнуть свечкой», т.е. опуститься быстро в коротком реверансе и испросить разрешения сойти вниз.
По лестнице, ведущей в приемную залу, Катрин шла так же чинно, как ходила в паре в столовую, в классы или дортуар. И только сердце ее птичкой рвалось туда, где она увидит родное лицо матери и милое личико Адель.
- Maman, comme je suis heureuse de vous voir, - произнесла Катрин, приседая перед матушкой.
- Je t'aime ma soeur, - тут уже можно было не церемониться и запросто обнять младшую сестру.
Классная дама, дежурившая в приемной зале, задержавшаяся в первое время около Давыдовой, заслышав французскую речь, благосклонно кивнула и пошла дальше «бдить» за институтками.
Когда первая волна радости от долгожданной встречи схлынула, Китти с ужасом заметила как от живого и румяного личика ее любимой Адель осталась лишь тень.
- Ты здорова?
- Матушка, а как же братец?
Ей так хотелось почувствовать себя частью семьи, что она готова была забросать и мать и сестру вопросами обо всех, начиная от отца, братца, бабушки, кузинах и заканчивая кухаркой Феклой и горничной Машей.
*Мама, я так рада вас видеть
** Я тебя люблю, сестричка